Ценностные ориентиры у бурят
29 мая 2018, 11:07 9339 0

фото: mnb.mn (буриадууд)
Рождение и воспитание детей
Появление на свет ребенка у бурят воспринималось в качестве дара свыше не только для семьи, но и для всего рода. Рождение и воспитание детей рассматривались как главная цель жизни человека и основная функция брака. При рождении детей, особенно сыновей, родители говорили, что теперь будет кому стать им опорой на закате жизни и прославить их имя своими делами (эхэ эсэгэдээ туhа болохо, эхэ эсэгын нэрэ нэрлуулхэ).
Поведение беременной женщины подвергалось строгой регламентации. Ей следовало избегать негативных эмоций (таких как страх, ужас, гнев, зависть и досада), запрещалось переступать через острые предметы и орудия труда, что было связано с верой в их отрицательное влияние на здоровье будущего ребенка. Вводились запреты, ограничивающие контакты беременной женщины не только с посторонними, но и с родственниками. Она не должна была посещать места массового скопления людей - свадьбы, родовые жертвоприношения, похороны и т.д. Большое внимание беременные женщины уделяли тому, чтобы не допустить «осквернения» - бузарха как самой себя, так и находящегося в утробе ребенка «гэдэhэн соохи бузар». Ей не разрешалось посещать места, где проходили похороны или находился больной, умирающий человек, не позволялось употреблять пищу, взятую из такого места. По народным воззрениям, очиститься от скверны было сложно. «Оскверненный в животе ребенок» мог родиться больным или слабоумным. Осуждалось «нетипичное/асоциальное поведение» беременной женщины.
Главной задачей воспитания детей у бурят, как пишет Жамсо Тумунов, являлось «поднятие» достойных хранителей огня родного очага, продолжателей рода - «турэhэн гуламтынгаа гал замхаруулангуй ябаха». Осознание значимости поддержания непрерывности жизни побуждало родителей прилагать все свои усилия для того, чтобы вырастить детей хорошими людьми «хун болгохо». В воспитании ребенка кроме семьи принимали участие соседи и одноулусники (турэл нэгэ нютагай зон).

Главным принципом воспитания детей был принцип послушания и повиновения старшим: «хун ахатай - дэгэл захатай» - «шуба имеет воротник, а человек - людей старше себя». «Аха заха хуниие хундэлхэдоо - оорыгоо хундэлнэш» - почитая старших - уважаешь себя (т.е. если будешь уважать старших, то и младшие будут также относиться к тебе). Младшие к взрослым обращались только на «вы». Старики, храня и передавая ценности своей культуры, обеспечивали преемственность поколений.
Дети должны были чтить своих родителей: «эхэ эсэгэеэ хундэлхэгуй hаа, бурханда бу мургэ» – если не уважаешь родителей, то незачем чтить бога. Считалось, что хорошие поступки родителей являются залогом благополучия и здоровья детей - «оорын бэрхэ бэшэ, эхэ эсэгын ургэмжэ оодэ татана».
Дети обязаны были обеспечить старым родителям три условия: мягкое слово, мягкую постель, мягкую еду (эхэ эсэгын харюу бусааха - гурбан зоолэн угоор, унтаряар, эдеэгээр). Самым страшным грехом считались неуважение к родителям и оставление их на старости лет без опеки. В обычном праве бурят, в частности, в ст. 38 «Положения 11 хоринских родов» 1808 г., полагалось наказание за неуважение к родителям и их оскорбление. Местные старшины должны обидчиков публично наказать плетью.
Человек должен быть благоразумным (ухаатайгаар ябаха), т.е. обладать «умением находиться среди людей» (хун зон соо бэеэ абаад ябажа шадаха). Во всем необходимо было придерживаться золотой середины - хунhоо дортонгуй, доро бэшэ, дээрэ бэшэ; дундын дундые тэбшэхэ. Старинная поговорка гласит: «нэрэеэ хухаранхаар - яhаа хухара» - лучше сломать свою кость, чем опорочить свое имя. Совесть человека в миропонимании агинских бурят была взаимосвязана с совестью окружающих его людей «хунэй hэшхэл - зоной hэшхэл», что свидетельствовало о неразрывной связи человека с обществом, коллективом. При совершении человеком неблаговидных поступков страдал авторитет его родственников и сородичей.
Этапы жизни
На каждом этапе жизни человек должен был овладевать определенными знаниями, умениями или успевать «устроить» свою жизнь. В раннем детстве ребенок начинал приобщаться к социуму, осваивая нормы поведения и трудовые навыки.
До 10 лет должен был научиться вести себя среди людей, уважать старших и почитать родителей.
До 20 лет человек должен был обрести физическую силу, закалить свою волю и характер и определиться с выбором своего пути.
К 30 годам человек подходил к черте создания своего семейного очага, к супружеству. В более зрелом возрасте возможность создания семьи становилась менее вероятной.
В 40 лет он должен был «подняться, встать на ноги»: иметь свой дом, свое хозяйство, скот. Хозяин в полном смысле этого слова мог стать опорой родственникам и сородичам. Если до 40 лет человек не прошел этих ступеней и не устроил свою жизнь, то в дальнейшем он будет терзать своих близких родственников. После «долгих блужданий» он встречает старость - дутый турэлхидоо зобоон, таби хурэжэ, будэрhоор жара хурэжэ, дала наhандаа далдын нухэр болоhоор лэ хунэй наhан тугэсэхэ.
В 50 лет человек начинал понимать суть многих явлений с высоты прожитых лет и накопленного жизненного опыта.
В 60 лет он испытывал счастье, когда вырастали дети и рождались внуки.
В 70 лет человек, осмысливая свою прожитую жизнь и освобождаясь от земных привязанностей, постепенно отдаляется от общества, этот возраст считали возрастом уединения, отшельничества (Дала наhан – даяанай наhан).
80 лет – «время пира», старик отдален от мирской суеты, пользуется почетом и уважением.
Как видим, все вышеперечисленные циклы и требования к качественным возрастным характеристикам взаимосвязаны и представляют собой единую «цепочку». Если человек проживал долгую жизнь, то полагали, что он родился не зря – «хун турэhэнэй урматай». Кроме долголетия ценность имели дела и поступки человека, совершенные для блага других – «олоной тулоо оролдожо бутооhэн, хэhэн ажал/ хэрэг, тyha».
В иерархии позитивных жизненных ценностей агинских бурят, помимо здоровья и долголетия, высокое место занимали материальное благополучие и достаток. Самыми страшными среди несчастий и невзгод, которые могли обрушиться на человека, считались болезни и ранняя смерть, наступавшие из-за грехов человека или его родителей – нугэлтэй хундэ убшэн хурэхэ . Семья в традиционном обществе являлась своеобразной точкой опоры человека. Она выступала центром накопления, хранения, возвышения и трансляции экзистенциальных смыслов человека.
Жизнь человека не считалась полной и совершенной, если он не был мужем хорошей жены и отцом детей. Безбрачие, бездетность, одиночество рассматривались как безусловное зло.
Идеал мужчины
Главой бурятской семьи считался отец, счет поколений родства у бурят велся по мужской линии. В тех семьях, где были только мальчики, с нетерпением ждали рождения девочки. Сыновья являлись продолжателями рода, а дочери объединяли чужих людей узами родства (уг залгаха хубууд, уг нииилуулхэ басагад). По утверждению информаторов, в суровых условиях степной кочевой жизни вырастить детей было нелегко, поэтому пол ребенка для родителей не имел особого значения; рожденные дети равны и ценны – хоер хушуун ури адли тэгшэ.
Младший сын (одхон хубуун) считался наследником и хранителем отцовского очага (отошо, отогоо хамгаалха, бариха). Он обеспечивал родителей на склоне лет и «провожал» их в последний путь. В настоящее время престарелых родителей опекают в основном дочери. Отношения в семье складывались на основе почитания отца, мужа, старшего брата, сына. Все было направлено на создание условий для их благополучия.
Идеалом мужчины в традиционном обществе агинских бурят выступал человек, имеющий семью и детей, пользовавшийся уважением среди сородичей. Он считался полноценным/полным – бурин бутэн хун, что подразумевало способность воспроизведения и продолжения жизни. По воззрениям бурят, настоящий мужчина обязан был обладать девятью мужскими знаниями, умениями (эрын юhэн эрдэм). Он должен быть метким стрелком, уметь натягивать тетиву лука, владеть искусством охотника, уметь плести восьмистержневую плетку, делать конские путы из сыромятной кожи, быть мастером по металлу, владеть приемами национальной борьбы (бухэ барилдаан), обладать знаниями обучения скаковой лошади, уметь укрощать необъезженных лошадей, переламывать кость одним ударом кулака (hээр шаажа шадаха).

Главными и положительными чертами мужского характера считались мужественность и великодушие: «эрэ хунэй досоо эмээлтэ морин багтаха ehoтoй» – душа мужчины должна «вмещать» в себя оседланного коня. О несдержанных и вспыльчивых людях обычно говорили: «эхэнэр шэнги бирагуй зантай» – неуравновешен, как женщина.
Статус женщины
Женщина в традиционном обществе мыслилась как продолжательница рода и хранительница очага. Положение женщины и степень ее свободы в обществе и в семье у агинских бурят зависели от выполняемых ею социальных ролей и от принадлежности к определенному общественному слою. В традиционном обществе агинских бурят статусы девочки и девушки на выданье, незамужней женщины и женщины-матери, молодой женщины и женщины-хозяйки различались. Статус матери, дающей жизнь ребенкуи продолжающей род, был довольно высок. Как полагают верующие-буддисты, женщина, родившая трех сыновей друг за другом, не переродится в трех низших мирах – гурбан хубуу турэhэн хун гурбан муу заяанда унахагуй.
Вся жизнь женщины строго контролировалась нормами традиционного общества. Незамужняя девушка, жившая в доме своих родителей, находилась под опекой отца. Если его не было, то под опекой дяди по матери (нагаса) или братьев. Вопрос выбора спутника жизни обычно решался родителями девушки, в частности ее отцом. При этом желание девушки, вообще желание детей, практически не учитывалось. Широко бытовала такая традиция, как помолвка в младенчестве и раннем детском возрасте (буhэ андалдаан), когда отцы «закрепляли» договор ритуалом обмена кушаками.
Смысл жизни женщины в традиционном обществе агинских бурят был связан с поиском опоры в супружестве и материнстве, поскольку она могла реализовать себя в полной мере лишь в браке.

В традиционном миропонимании агинских бурят женщина во многом противопоставлена мужчине как отрицательное – положительному, как левое – правому. Она всегда должна была пропускать вперед мужчину, не должна была переходить ему дорогу. Еда всегда подавалась в первую очередь мужчине. Мужчине возбранялось заниматься домашней работой, аналогичным образом женщине запрещалось выполнять мужскую работу. Эти запреты были связаны с верой в то, что, выполняя противоестественные, не свойственные для своего пола функции, мужчина мог подавить в себе свое жизненное начало.
Женщина, возложив на себя мужские обязанности, могла подавить сулдэ мужчины – эрэ хунэй hулдэ дараха.
Но, несмотря на то, что бурятское общество было патриархальным, положение хозяйки дома (жены, матери) было таким же высоким, как хозяина – главы семьи (мужа, отца). Организаторские функции в семье осуществлялись ими обоими в равной степени. Но тем не менее сфера деятельности женщины как существа физиологически «нестабильного» (периодически нечистого) была сужена. В определенные дни месяца и после родов она считалась нечистой и не могла принимать участия в религиозных обрядах и ритуалах. Таким правом в полной мере она обладала только в постфертильный период. Пожилые женщины, благополучные в отношении потомства, считающиеся «полными» (бурин бутэн), могли становиться повитухами. В бурятском обществе статус женщины, жизненный путь которой отклонялся от «естественного» (старые девы и бездетные) был очень низок.
У агинских бурят, как указывает Л. Линховоин, достойными людьми считались люди честные, степенные, смелые, стойкие, благонравные, спокойные, разумные, гостеприимные и уважающие людей. Люди нечестные, безвольные, легкомысленные, капризные, крикливые и жалующиеся на судьбу не пользовались уважением. Недостойной слабостью считалось публичное выражение горя при утрате родных.
Народные воззрения о хорошей (hайнаар хушэрхэ) и плохой старости (муугаар хугшэрхэ), имеющие неразрывную связь с представлениями о «достойно прожитой жизни», выступали своеобразным итогом бытия человека. Под плохой старостью подразумевались такие обстоятельства, когда человек переставал насыщаться едой (садахаа болихо), ладить с окружающими (хундэ дурагуй), становился злым и ворчливым (хараалша болохо).
Человек, встретивший «спокойно» закат жизни, находившийся в гармонии с окружающими, отдалившись от мирской суеты и всего «материального», считался человеком «достойно» ушедшим из жизни.
Литература:
Цыденова Д.Ц. «Концепция "достойной жизни" в традиционных представлениях агинских бурят». Гуманитарные науки в Сибири. 2007. № 3. С. 78-81.


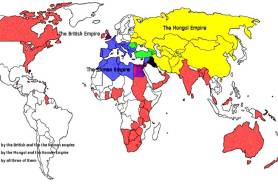










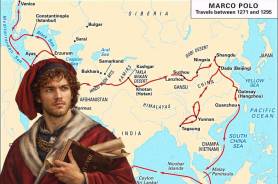



Комментарии ()