Ламаизм глазами русских исследователей XIX в.
26 октября 2018, 14:43 2498 0

фото: соцсети
Яков Павлович Дуброва (годы жизни не известны, предположительно вторая половина XIX - до второго десятилетия XX века) - учёный-этнограф, работавший в конце XIX века в течение 5 лет среди калмыков и написавший этнографические заметки о хозяйственном быте калмыцкого народа.
В 1883 году Яков Дуброва побывал в Монголии, где жил среди калмыков, ушедших из России в 1771 году. К сожалению, фотографии Якова Павловича не сохранились до наших дней.
Яков Дуброва был действительным членом Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. 20 ноября и 20 декабря 1897 года он представил свои наблюдения и дневниковые заметки на общем совете Общества археологии, истории и этнографии, после чего научным советом было принято решение опубликовать его записи.
Другой же автор Михаил Дмитриевич Бутин с бурятскими корнями (23.10.1835, Нерчинск, Забайкальской области – 07.04.1907, Нерчинск, Забайкальской области) - купец 1-й гильдии, золотопромышленник, меценат, коммерции советник, потомственный почётный гражданин, гласный Иркутской городской думы (1881 - 1884, 1894, 1898).

Окончил Нерчинское уездное училище. Торговую деятельность начал приказчиком состоятельных нерчинско-заводских купцов Кандинских. Занимался самообразованием. Совершил поездки по России, в Европу и Америку. Заботясь о развитии Сибири Михаил Бутин написал ряд статей о торговых путях и экономике края. В его «Письмах из Америки» (СПБ. 1872) выдвигалась идея скорейшего проведения Сибирской железной дороги.
В 1866 вместе с братом Николаем создал фирму «Торговый дом братьев Бутиных». Фирме принадлежали железоделательный, солеваренный и 3 винокуренных завода, ок. 50 золотых приисков в Забайкальской, Амурской и Приморской обл. Бутины проводили выгодные операции, торгуя хлебом и мануфактурой. Организовывали поиски новых месторождений, обустраивали прииски, внедряли новейшие методы поиска и добычи золота.
В 1870 на собственные средства вместе с братом снарядил Нерчинско-Тяньцзинскую экспедицию в Китай и Монголию.

Третий автор Яков Парфеньевич Шишмарёв (14 сентября 1833, Троицкосавск - 18 января 1915, Санкт-Петербург) - переводчик, дипломат, генеральный консул Российской империи в Урге, монголовед, способствовавший успешному проведению многих научных экспедиций. Дед Шишмарёва по национальности был бурятом, который был женат на русской казачке.

В 1855 определён на службу в канцелярию кяхтинского градоначальника, одновременно продолжал обучение в училище китайскому и маньчжурскому языкам под руководством К. Г. Крымского. В том же 1855 приступил к службе у генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьёва-Амурского, участвовал в Амурских экспедициях, организованных Муравьёвым. В 1858 году участвовал в переговорах при заключении Айгунского договора. Состоял переводчиком в пограничной комиссии при полковнике К. Ф. Будогосском, участвовал в составлении карты от верховьев Уссури до моря. В июле - августе 1859 года находился в Пекине на предварительных переговорах с китайцами. В 1860 отправлен в Пекин для участия в заключении Пекинского договора. С 1861 служил секретарём и переводчиком у консула К. Н. Боборыкина в Урге. С 1861 был управляющим консульством в связи с длительным отсутствием консула, с 1864 исполняющим обязанности консула. В 1865 назначен консулом, а в 1882 - 1904 генеральным консулом в Урге, в 1907 - 1911 годах переведён на должность управляющего консульством.
Шишмарёв был прекрасным знатоком Монголии. По выражению Д. А. Клеменца он знал Монголию «как улицы своего города». Он тонко понимал её народ, умело ладил и с маньчжурскими чиновниками, и с монгольскими ханами. В конце жизни он написал книгу о Монголии, рукопись которой была уничтожена родственниками в 1938 году в ожидании арестов.
Предлагаю Вашему вниманию заметки этих трех исследователей о религиозных верованиях Монголии того времени. Просим учесть, что авторы делали заметки в пути, то есть вели дневники, что отражает их культуру настоящих исследователей, отражает их видение совершенно нового для них мира, с другим менталитетом, обычаями и жизненным укладом.

Большое внимание авторы уделили ламаизму и его влиянию на жизнь монголов. Признавая учение Будды высоконравственным, они, однако, в целом отрицательно воспринимали его северную ветвь. Приведу обширную цитату из Дубровы.
«Не будь лам... монголы были бы уже культурным народом, были бы земледельцами. По крайней мере, настолько умелыми, что в этом умении - обрабатывать землю и пользоваться ее производительной силой - не уступали бы сибирякам. И то, что есть Монголия сегодня, было бы преданием старины глубокой. Но благодаря высшему духовенству, этому слуге китайского правительства, этим иудам своего народа, именем религии властвующим над умами номадов, именем религии за подачку преследующим цели чуждого народу правительства ...номады Монголии по складу жизни, по социально-экономическому своему состоянию едва, едва разнятся от первобытных народов» (1).
Не менее резок и отзыв Бутиных:
«Ламаизм - это католицизм Востока, выделивший себя из среды своего народа и эксплуатирующий невежество монголов» (2).
Заметили наши путешественники и то, что ламство было внутренне неоднородным. Дуброва писал:
«Осматривая курень, я везде встречал лам или с толстыми, лоснящимися от жира щеками, исполняющими правила аскетизма только на словах, или же, в противоположность разжиревшей братии, встречались истощенные, ободранные, в лохмотьях, питающиеся чуть ли не отбросами, пролетарии» (3).
Неоднородность выражалась еще и в том, что пути в буддийские монастыри были разными. Некоторые становились ламами по внутреннему призванию. Но больше было тех, за кого решение приняли родители.
Ламы жили весьма неплохо в материальном отношении; неудивительно, что каждая семья стремилась отдать одного, а то и нескольких сыновей в дацан. Потому-то любому путешественнику сразу бросалось в глаза, что лам в Монголии «существует громадное количество сравнительно с населением» (4).
По мнению Шишмарева, наличие в составе населения большой группы людей, связанных обетом безбрачия, была одной из главных причин его сокращения. Впрочем, ламы, посвященные не по призванию, не хотели отказываться от семейной жизни. Одни из них открыто жили в улусах, где у них были жены, дети и полное хозяйство. Другие прибегали к разного рода уловкам. Например, ближайший родственник ламы заводил себе сразу двух жен для того, чтобы одна из них сожительствовала с ламой (5).
Широко был распространен обычай, по которому ламе-гостю хозяин юрты обязательно выделял на ночь женщину из своей семьи. Все это подверглось осуждению со стороны наших авторов, писавших о связанном с ламаизмом извращении нравов в Монголии.
Бутины даже вспомнили о нравах французской аристократии XVIII века (6). Не добавляло симпатии ламаизму и то, что в стране его полного господства нередко не выполнялась одна из высших заповедей буддизма — любви к ближнему.
В своих публикациях путешественники приводят многочисленные примеры того, как семья в случае болезни ее членов оставалась без элементарной помощи соседей и родственников (7).
Как ламаизм проник в сердце кочевника читайте здесь.

Сноски
- Дуброва Я. П. Поездка в Монголию // Известия ВСОРГО. Иркутск, 1886. Т. 16. № 1–3. С.86.
- Братья Бутины. Исторический очерк сношений русских с Китаем и описание пути с границ Нерчинского округа в Тяньцзинь // Известия СОРГО. Иркутск, 1871. Т. 1. № 4–5. С. 85.
- Дуброва Я. П. Указ. соч. С. 34.
- Братья Бутины. Исторический очерк... С. 85.
- Дуброва Я. П. Указ. соч. С. 34.
- Братья Бутины. Описание пути с границы Нерчинского округа в Тяньцзинь // Известия СОРГО. Иркутск, 1871. Т. 2. № 1–2. С. 20.
- Там же.











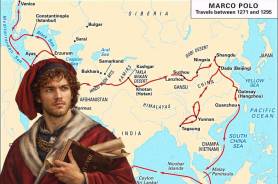




Комментарии ()